Очерки патологической истории
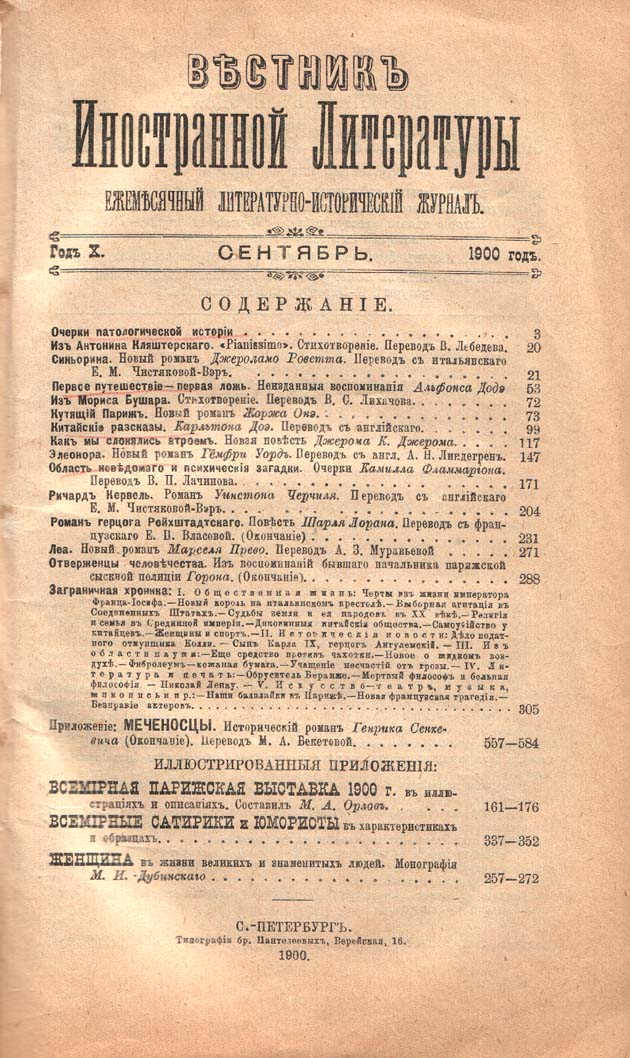
Недавно вышел последний том очерков патологической истории Кабанесса под заглавием «Секретный кабинет истории» (Те cabinet secret de Phistoire). Эти интересные этюды новой неисследованной стороны истории уже давно составляют специальность почтенного учёного, который изучает французскую историю с физиолого-психологической и медицинской точек зрения; очерки эти прежде появлялись в различных журналах, а теперь изданы отдельно в четырёх томах. Хотя, по словам автора, ещё рано выводить общие заключения и философские дедукции, так как количество собранных фактов недостаточно велико, но уже можно признать, что, согласно теории Ламброзо, многие из исторических деятелей были больные или умалишённые, и, например, цезаризм составляет лишь особое патологическое явление, удачно названное цезаритой.
Все очерки Кабанесса можно разделить на пять групп: первая из них посвящена эротическому элементу во французской истории, и в ней автор откровенно рассказывает всё, что происходило при свадьбах королей, и подробно исследует тайные болезни Франциска I и Людовиков ХIII, XIV, XV, XII, XVII, относясь к своему предмету совершенно серьёзно, без малейшей примеси порнографии; вторая группа, также чисто патологическая, знакомит читателя с недугами, имевшими большое влияние на жизненную деятельность знаменитых исторических личностей: с неврастенией Жан-Жака Руссо, с экземой Марата, с параличом революционного деятеля Кутона и с прогрессивным хроническим ревматизмом писателя Скаррона, мужа маркизы Ментенон. Входящие в третью группу психолого-физиологические этюды наиболее интересны и рисуют Людовика XVI в его интимной жизни, Робеспьера дома, настоящую жизнь Шарлотты Кордэ, суеверия Наполеона и псевдо-сумасшествие маркиза де Сада. К четвёртой группе относятся характеристики более или менее выдающихся докторов с общественной точки зрения: любимца Людовика XI, ловкого интригана Куаты; первого акушера французского двора Клемана, начавшего при Людовике XIV серию придворных акушеров, окончившуюся с падением Декабрьской империи; врача маркизы Помпадур, знаменитого экономиста Кенэ; изобретателя или крестного отца гильотины Жоржа Гильотена; друга Робеспьера и одного из судей Марии-Антуанетты, хирурга Субербьеля; мэра Парижа во времена революции, Шамбона де-Минто; врачей Талейрана и пресловутого Паджелло, игравшего третью роль в жизненном романе Жорж Санд и Мюссе. Наконец, к пятой группе можно отнести различные этюды, имеющие прямое или косвенное отношение к истории с медицинской точки зрения; тут мы встречаем подробности о родах Марии-Антуанетты и императрицы Марии-Луизы, о свадьбе Людовика XV и Марии Лещинской, об исторических скелетах, о глазе Гамбетты и т.д.
Мы познакомим читателей с самыми интересными очерками доктора Кабанесса по всем этим группам, исключая эротические, которые не поддаются изложению на русском языке. И то нам придётся в предлагаемых очерках опускать слишком откровенные физиолого-патологические подробности, неудобные для русской печати, хотя в подлиннике они вполне уместны, так как автора вынуждает приводить их сама жизнь, верным отражением которой должна быть история, а тем более патологическая.
I. Доктор маркизы Помпадур
Обыкновенно о царствовании Людовика XV говорят с презрительной улыбкой, как об эпохе придворных интриг и скандалов безумного веселья и тонких ужинов, очаровательных женщин и легкомысленных аристократов, державшихся правила: «После нас потоп». При этом забывается, что рядом с бешеной пляской старого разрушавшегося общества происходила упорная работа – подготовление нового общества. Странно сказать, что эта работа производилась, между прочим, в придворных апартаментах одной из самых блестящих представительниц безумно веселившегося старого общества, маркизы Помпадур, которая из буржуазной выскочки сделалась могущественной королевой Франции, хотя и с левой стороны.
Рядом с будуаром фаворитки, где король подчинялся всем её капризам, а министры целовали её туфлю, передовые умы того века рассуждали обо всём в самом либеральном, свободном духе. Даже по временам фаворитка присоединялась к этому странному обществу, в котором блестели д'Аламбер, Дидро, Тюрго, Мармонтель и Бюфон, уже не говоря о самом хозяине, окружавшем себя такими гостями – о докторе маркизы Помпадур, Франсуа Кенэ.
*) Франсуа Кенэ родился в Мерэ, блвз Монфора, в 1694 году и, окончив блестящим образом курс медицинских наук в Парижском университете, получил степень доктора, пользовался репутацией учёного врача. Но он достиг славы, как экономист, основатель школы физиократов, считавших землю единственным источником богатства и требовавших полной свободы в экономической жизни народа. Это учение старался применить на практике Тюрго, сделавшись министром. Людовик XV назначил Кенэ придворным медиком, дал ему дворянство и называл его мыслителем, потому что он выбрал себе для герба три трёхцветные фиалки на серебряном поле, с девизом: «Propter cogitatio nem mentis».
Людовик XV поместил Кенэ, как врача своей фаворитки, в её апартаментах и почти рядом с её будуаром. Хотя его помещение было очень тесное, но ему было всё равно; он философ и, гуляя по Версалю с чисто выбритым лицом и весёлой улыбкой, не лишённой иронии, не думал об исполнении своей придворной обязанности, не преклонялся перед сильными мира сего и под маской праздного царедворца размышлял о самых серьёзных задачах общественной экономии. Пока в будуаре маркизы Помпадур рассуждали о мире и войне, назначали главнокомандующих и сменяли министров, её доктор в соседней комнате спокойно писал экономические аксиомы.
Он жил при дворе и не ведал даже придворного языка, никогда не вмешивался в придворные интриги и чуждался всех придворных. Он вёл дружбу и любил разговаривать только с посещавшими его литераторами и философами, в числе которых были почти все редакторы «Энциклопедии», в которой он помещал статьи по политической экономии, – термин, им самим придуманный.
В этой избранной среде Кенэ был всегда нараспашку и резал правду, хотя вообще в разговорах со всеми и везде выражался прямо и откровенно. Однажды во время распри между парламентом и духовенством какой-то царедворец доказывал при Кенэ Людовику XV в будуаре маркизы Помпадур, что государство надо вести алебардой.
— А кто ведёт алебарду? — спросил Кенэ, обращаясь к королю, и, не дожидаясь ответа, прибавил: — Общественное мнение. Значит, надо развивать общественное мнение.
В другой раз дофин, отец Людовика XVI, Людовика XVIII и Карла X, жаловался на трудность королевского ремесла и спросил у Кенэ:
— А что бы вы делали, если бы были королём?
— Ничего, ваше высочество, – отвечал великий экономист.
— А кто управлял бы страной?
— Закон, – сказал спокойно Кенэ.
К Людовику XV Кенэ питал уважение и даже нежную привязанность, что доказывал не раз на деле.
Однажды ночью маркиза Помпадур разбудила свою камеристку, г-жу д'Оссэ, которая описала этот случай в своих мемуарах.
— Идите скорей, – воскликнула фаворитка, – король умирает!
Камеристка поспешно накинула на себя юбку и быстро последовала за своей госпожой.
Что им было делать? Они стали прыскать водой на лежавшего без чувств короля, а когда он очнулся, то дали ему гофманских капель.
— Не шумите, – сказал он, – подите к Кенэ и позовите его сюда. Но скажите, что ваша госпожа нездорова.
Кенэ тотчас явился и с удивлением увидел, в каком положении находился король. Он пощупал пульс и сказал:
— Кризис прошёл, но если бы королю было шестьдесят лет, то это могло бы кончиться серьёзно.
Он поспешно вернулся в свою комнату, взял какое-то лекарство, по всей вероятности, капли генерала Ламотта, и дал королю небольшую дозу. Затем он облил короля туалетной водой, заставил его выпить несколько чашек чаю и отвёл его в королевские апартаменты, причём Людовик тяжело опирался на его руку.
На следующее утро король тайно послал Кенэ записку для маркизы, в которой было написано:
«Любезный друг, вы, вероятно, очень испугались, но успокоитесь, я хорошо себя чувствую и доктор вам это удостоверит».
За оказанные услуги и хранение в тайне этого случая Кенэ получил пенсию в тысячу золотых и обещание хорошего места для его сына.
На этот раз добрый доктор отделался страхом, но он часто с печалью говорил о тех последствиях, которые могла иметь смерть короля.
Однажды Мирабо сказал ему:
— Сегодня лицо короля мне не понравилось, он очень стареет.
— Тем хуже, тем хуже, – воскликнул Кенэ, – его смерть для Франции будет великой потерей!
И он начал подробно описывать те гибельные результаты, которые могли произойти от этого события.
Вместе с уважением и привязанностью к королю Кенэ питал и некоторый страх. Однажды после разговора с королём он остался наедине с маркизой Помпадур, и та спросила его:
— Отчего вы всегда взволнованы, когда говорите с королём? Ведь он такой добрый.
— Маркиза, – отвечал он, – я покинул свою деревню в сорок лет и с трудом привыкаю к светскому обществу. Разговаривая с королём, я всегда думаю: «Вот человек, который может отрубить мне голову», и эта мысль меня тревожит.
— Но разве вас не успокаивает сознание его доброты и справедливости?
— Я всё это говорю себе потом, но сначала мною овладевает инстинктивный страх.
Конечно, если Кенэ уважал Людовика XV и сочувственно о нём отзывался, то по совершенно своеобразной причине.
— Людовик XIV, – говорил он, – любил стихи и покровительствовал поэтам, но от этого его век не будет считаться великим, а Людовик XV прославил своё царствование посылкой в Мексику и Перу астрономов для измерения земли и тем, что, несмотря на крики ханжей, развязал руки философам и дозволил издание «Энциклопедии».
Кенэ отличался удивительно верным, проницательным взглядом, и его предсказания насчёт болезней часто оправдывались. Например, во время разговора с королём и маркизой Помпадур о сумасшествии и сумасшедших он сказал:
— Я берусь распознать за полгода симптомы сумасшествия.
— А есть при дворе кто-нибудь, кто должен сойти с ума? – спросил поспешно король.
— Я знаю одного, который рехнётся через три месяца, – отвечал Кенэ.
Король и маркиза стали живо спрашивать имя этого человека, но Кенэ долго отказывался назвать его, и только когда Людовик начал серьёзно настаивать, он исполнил его желание.
— Это генерал-контролёр Сешель, – произнёс он. – Несмотря на свою старость, он ухаживает за женщинами, и я часто замечал, что он путается в изложении своих мыслей.
Король рассмеялся, но спустя три месяца, вернувшись из совета министров, сказал маркизе Помпадур:
— Сешель совершенно рехнулся и говорил сегодня такую чушь, что надо назначить другого на его место.
Точно так же верно Кенэ предсказал, что у хранителя королевской печати Берье случится апоплексический удар, что действительно и произошло.
Вообще Кенэ с первого взгляда отгадывал людей и читал, как в открытой книге, в душе каждого. Его характеристики современников отличались замечательной меткостью. Так, о раздушенном министре Шуазеле он говорил:
— Это больше ничего, как франт, и если бы он был покрасивее, то мог бы играть роль Миньона Генриха III.
Шарлатанов он не терпел и отзывался очень резко о пресловутом графе Сен-Жермене, который уверял, что может превратить мелкий бриллиант в крупный.
— Может быть, он и умеет увеличивать размер жемчугов, – говорил Кенэ, – но всё-таки он шарлатан, так как рассказывает, что ему несколько сот лет и что у него есть жизненный элексир.
Один парижский доктор, Ренар, приказал маркизе Помпадур, страдавшей сердцебиением, ходить скоро и поднимать тяжести, на том основании, что если сердцебиение после этого увеличится, то, значит, у неё болезнь сердца, а если не увеличится, то это будет доказательством, что у неё только расстроены нервы. Узнав о таком странном докторском рецепте, Кенэ только сказал:
— Ловкий человек.
Королева с левой стороны лишь однажды пользовалась услугами своего врача. Это было за год до её опалы. Находясь в Фонтенбло, она как-то писала за своим письменным столиком, над которым висел большой портрет короля, и случайно так крепко захлопнула ящик, что портрет упал ей на голову. Тотчас послали за Кенэ и он предписал кровопускание и успокоительную микстуру.
Отношения между Кенэ и камеристкой маркизы были, по-видимому, близкие, но ничто не доказывает, чтобы они переходили границу дружбы или во всяком случае платоническую привязанность. Г-жа Д'Оссэ говорит в своих мемуарах, что она питала к нему большое сочувствие, часто ужинала с ним и постоянно прибегала к его советам, как умного человека и замечательного оракула. Он с своей стороны любил разговаривать с нею о деревенской жизни, так как, по её словам, более интересовался возделыванием полей, чем придворными интригами. Во всяком случае, он был слишком предан умственной работе, чтобы ухаживать за женщинами.
Умственный труд был для него такой необходимостью, что на 81 году от рождения он написал три сочинения по политической экономии. За десять лет перед тем ему вздумалось заниматься математикой и он пламенно принялся за это дело. Точно также он немножко изучал богословие с помощью духовника Людовика XV, патера Демарэ. Конечно, экономические труды составляют его главную славу.
Впервые он изложил своё экономическое учение, названное им физиократией, в небольшом сочинении под заглавием «Tableau есоnomique», которое Лагарп называл «Кораном экономистов>. Хотя эта книжка была напечатана в Версале по приказанию короля и даже сам Людовик сделал её первые оттиски, но затем все экземпляры были так старательно секвестрованы, что, по словам Мирабо, нельзя было отыскать ни одного из них.
Кенэ умер в 1774 году настоящим философом, нимало не боясь смерти.
Видя, что слуга плачет горькими слезами, он за несколько минут до кончины сказал:
— Успокойся, я ведь родился для того, чтобы умереть. Посмотри на мой портрет и прочитай под ним запись, когда я родился. Кажется, я довольно пожил.
В эту роковую минуту он не изменил своей обычной скромности и умер, не подозревая, что могила будет для него воротами к бессмертию.
В 1896 году воздвигнута статуя Кенэ на его родине, в провинциальном городке Мерэ.
II. Людовик XVI в ежедневной жизни
Точно предчувствуя свою судьбу, Людовик XVI заранее написал свою защиту, и если бы адвокаты Мальзерб, Десез и Тронше представили Конвенту автобиографический дневник, ведённый королём в течение почти тридцати лет, то, по всей вероятности, приговор состоялся бы совершенно иной.
Немногим известно, что с 1766 года Людовик XVI, тогда еще дофин, записывал день за днём все факты, которые, по его мнению, заслуживали внимания, и все мелкие развлечения, которые пополняли пустоту его скучного существования. Дневник дофина прекращается 30 июля 1774 года, а дневник короля начинается 1 августа того же года и ведётся аккуратно до 31 июля 1792 года. Тут, за десять дней до 10 августа, он окончательно прерывается. Этот драгоценный документ, хранящийся в национальном французском архиве, был напечатан только отрывками, хотя он даёт возможность нарисовать нравственный или, скорее, психофизиологический портрет Людовика XVI, который возбуждает к нему сострадание, если не сочувствие, ввиду его очевидной невменяемости.
Так как дневник написан от начала до конца собственноручно Людовиком XVI, то не может быть сомнения в его подлинности. К тому же, он был найден с другими бумагами в железном шкапу и ни один из историков не представлял до сих пор доказательств в их подложности.
Что же мы читаем на этих пожелтевших страницах? Подробные записи о королевских охотах с обозначением числа убитых оленей или коз; заметки о здоровье автора дневника, о том, что он ел и пил, наконец, о семейных событиях. Набожность короля доказывается тем, что в дневник занесено, когда он совершал церковные обряды и когда участвовал в религиозных церемониях. Наконец, Людовик XVI не забывает упомянуть о произведённых им двадцати пяти парадах, о посещённых им балах и театральных представлениях, о прогулках верхом и других развлечениях. Что же касается до политических событий, то о них едва говорится вскользь. По справедливому замечанию одного историка, на страницах дневника нельзя встретить ни одной мысли, ни одной идеи. Каждая запись доказывает сухость сердца Людовика, равнодушие ко всему и недостаток умственных способностей, которые обезоруживают всякого предубежденного человека. Невольно в этом дневнике ищешь преемника Людовика XIV, даже Людовика XV, а встречаешь вечного недоросля.
Всё, что известно об естественной застенчивости и неловкости Людовика XVI, вполне подтверждается на страницах дневника. С самого детства он выражал страх к шуму и толпе, так что этого чувства никак нельзя было в нём побороть. Mapия-Аделаида, очень его любившая, часто ему говорила: «Кричи, Берри, бранись, шуми, как твой брат д'Артуа, только обращай чем-нибудь на себя внимание». Но юный герцог Берри сидел скромно в уголке и едва смел поднять глаза на окружавших его лиц. Он предпочитал физические упражнения и ручной труд, а всего более любил рисовать географические карты и заниматься слесарной работой. Как родственники над ним ни смеялись, называя его «богом Вулканом», он упорно держался в стороне от двора с его соблазнами, не чувствовал ни малейшей склонности к шумным удовольствиям и предпочитал общество ремесленников, с которыми любил работать и которых щедро награждал.
Он также питал страсть к охоте на кошек и собак, когда не мог охотиться за зверями или птицами. Так однажды, гоняясь за кошками по крыше Версальского дворца, он поскользнулся, и его спас от падения каменщик, который получил за это пожизненную пенсию. Несмотря на свою хвалёную доброту, он очень жестоко обращался с домашними животными: он собственноручно убил молотком кошку графа Морена и поломал рёбра палкой у маленькой собачки, принадлежавшей одной придворной даме.
В своём дневнике Людовик XVI упоминает только о трёх своих болезнях, но современники, напротив, рассказывают, что он был очень прожорлив и часто страдал от этого недостатка. Член Конвента Баррер обвинял его в пьянстве, но совершенно пьян он был только раз в жизни, на охоте, и его привезли тогда спящим в Версаль.
Что же касается до его прожорливости, то он, как ребёнок, заботился о том, чтобы хорошенько поесть, в самые кровавые дни революции. Во время его бегства из Парижа в Варенн он терял столько времени на завтраки и обеды, что погубил себя и был арестован; после ареста первым его словом было спросить вина и сыру. На возвратном пути он на всех станциях ел и пил, как ни в чём не бывало, а вернувшись в Версаль, съел за ужином целую курицу. Об этой роковой поездке в Варенн он лаконически говорит в своём дневнике:
«Вторник 21 июня 1791 года. — Отъезд из Парижа в полночь. Прибытие и арест в Варенне в 11 ч. вечера.
«Среда 22. — Отъзд из Варенна в 6 ч. утра. Завтрак в Сент-Менего. Приезд в Шалон в 10 ч. вечера. Ужинал и спал в старом интендантстве.
«Четверг 23. — В 11 1/2 часов прервал обедню, чтобы поскорее уехать. Завтрак в Шалоне. Обед в Эпернэ. Встреча с комиссарами Национального Собрания в Бинсоне. Прибыль в 11 ч. в Дорман. Ужинал и спал три часа в кресле.
«Пятница 24. — Отъзд из Дормана в 7 1/2 ч. Обед в Фертэ.Прибытие в Мо в 10 ч. Ужинал и спал в епископском доме.
«Суббота 25. — Отъезд из Мо в 6 1/2 ч. и прибытие в Париж в 8 ч. вечера без остановок».
10 августа короля запирают в маленькой комнате в здании Национального Собрания, и он спокойно ест и пьёт, хотя толпа извне осыпает его грубыми оскорблениями.
Выходя из заседания Конвента, в котором его судили, он попросил кусок хлеба, потому что увидед краюшку хлеба в руках близ стоявшего человека, и по дороге в Тампльскую тюрьму грыз корку. Прибыв же в темницу, он тотчас сел за стол и съел шесть котлет, большой кусок курицы и два яйца, а выпил два стакана белого вина и рюмку малаги. Точно также после объявления ему приговора и прощания с семьёй он, по словам его камердинера Флери, ужинал с большим аппетитом.
Конвент до последней минуты щедро удовлетворял всем потребностям его прожорливого желудка, а во время его пребывания в Тампле на него готовили 12 поваров. Жадность Людовика XVI в эту критическую эпоху его жизни обратила внимание даже художников, и живописец Жерар, получивший приз на конкурсе, заявленном со стороны Конвента для картины «День 14 августа 1792 года», изобразил короля в тот момент, как он грыз цыплёнка, держа его обеими руками, на глазах членов Конвента, обсуждавших его судьбу, и неистово рукоплескавшей толпы. Нелишнее заметить, что когда впоследствии Жерар сделался бароном и придворным живописцем Людовика XVIII, он убрал цыплёнка с означенной картины.
О желудке Людовик XVI заботился не менее, чем о пище. Так, в самые памятные революционные дни он записывает в своём дневнике только следующее:
«Четверг 14 июня 1791 года. — Надо было принять лекарство.
«Четверг 21. — Принял лекарство и пил сыворотку».
О сыворотке, его любимом средстве против расстройства желудка, он упоминает часто и, между прочим, два дня после возвращения из Варенны в Париж.
«Вторник 28 июня. — Ничего. Пил сыворотку».
Кроме того, он часто упоминает, что пил воду Виши и принимал слабительное. Ванны он брал не часто, но всегда заносил этот факт в дневник, именно 43 раза в течение 8 лет. Что касается болезненных симптомов, то он старательно их записывает: то его лихорадит, то у него насморк и т.д.
Но всего подробнее он записывает охоты, к которым питал особую страсть. В дневнике указывается, какая была охота — на кабана, оленя или козу, какая участвовала свора собак — большая иле малая, где завтракали или ужинали и сколько убито зверей. В конце каждого месяца и потом года подводится общий итог охотничьих трофеев короля.
Мелочная аккуратность Людовика обнаруживается в каждой странице не только дневника, но и приложенных к нему счетов за 1772, 73, 74 года. Между прочим, имеется такая запись, собственной рукой:
«За часовое стекло 12 су. Батару за письмо 9 су; за тетрадку бумаги 4 су».
Каждая ошибка в счёте приводила его в отчаяние и, между прочим, он однажды записал:
«У меня вкралась какая-то ошибка, потому что денег в ящике меньше, чем следует, и надо составить сызнова счета».
В конце каждого месяца король сосчитывает свои выигрыши и потери в картёжной игре и лотерее. Хотя он постоянно проигрывал, но это был небольшой расход в сравнении с тем, что ему стоила Мария-Антуанетта, с её бесконечными фантазиями.
Всё-таки королева была единственным предметом его любви, если он кого-нибудь любил в своей жизни. Тщетно искать в его дневнике хоть одного сердечного слова по случаю величайших событий его семейной жизни.
О первом свидании с Mapией-Антуанеттой он пишет:
«Видел дофину».
Свою свадьбу он описывает так:
«16 мая 1770 года. Среда. — Моя свадьба. Апартаменты отведены в галерее. Королевский банкет в Оперном зале».
Вот и всё. Затем 17-го он помечает, что был в опере, а 18-го охотился на оленей с большой сворой.
Только однажды он подробно распространяется в дневнике о жене, именно по случаю первых родов Марии-Антуанетты, но и тут не проглядывают искренние чувства ни мужа, ни отца.
«10 декабря 1788 года. — Королева вчера легла спать без малейших страданий. В половине первого она начала страдать, а через час родила. Послали за герцогиней Ламбаль и придворными дамами. В три часа принцесса Шимэ пришла за мной. Королева ещё лежала на своей большой кровати, а через час перешла на приготовленную для родов маленькую кровать. Герцогиня Ламбаль послала за королевской семьёй: принцами и принцессами, бывшими в Версале, за герцогом Орлеанским, герцогиней Бурбонской и принцессой Конти, находившимися в Сен-Клу, а также за герцогом Шартрским, герцогом Бурбонским, принцем Конти, уехавшими в Париж. Страдания несколько уменьшились, и она ходила по комнате до 8 часов, когда снова легла на маленькую кровать. В спальне собралась вся королевская семья, принцы и принцессы, и придворные дамы, с герцогиней Полиньяк во главе; в большом кабинете ждали: моя свита, свита королевы и высшие особы, а в игорном салоне и галерее все остальные. По знаку акушера дверь отворили и все вошли. Королева разрешилась от бремени в 11 1/2 часов дочерью. Я тотчас вышел в большой кабинет, чтобы посмотреть, как спеленают новорожденную и передадут гувернантке, герцогине Гемене. Один из дежурных при королеве гвардейских офицеров отправился объявить о счастливом событии городским представителям, которые собрались во дворце, а другой проводил мою дочь в её апартаменты. Во время родов королеве нельзя было пустить кровь, и как только она родила, кровь бросилась ей в голову и она потеряла сознание. Ей много выпустили крови из ноги и с тех пор она чувствует себя хорошо. Я вернулся к себе в 2 1/2 часа и подписал собственноручные письма императору, императрице и королю испанскому; остальные письма уже были подписаны заранее».
Этот подлинный документ рисует лучше всяких комментариев верный психологический портрет беспечного, легкомысленного Людовика, всегда доброго человека и более заботившегося об охоте и выделке ключей, чем о государственных делах и здоровье своей жены.
В тот день, когда король не ездил на охоту и не присутствовал на церковной службе, он отмечал в своём дневнике: «Ничего». Это «ничего» знаменует дни, в которые происходили самые важные государственные или политические события. В день подачи протеста парламента — «ничего». В день представления парламентской депутации королю — «ничего». В день отставки Неккера — «ничего». В день смерти Морена — «ничего». В день кончины Марии-Терезии, его тёщи, — «ничего».
В июне 1792 года отметка «ничего» чередуется с означением церковных служб и охот, а в июле того же года, в самую трагическую эпоху революции, в продолжение 23 дней в королевском дневнике повторяется одно и то же слово «ничего».
В сущности, это слово «ничего» всего лучше характеризует Людовика XVI, человека без энергии и воли, случайно наследовавшего скипетр, держать который было не по силам его слабым рукам.
III. Был ли Гильотен изобретателем гильотины, или она только названа его именем?
Не имея притязания повторять историю гильотины, уже не раз рассказанную, укажем только на истинную роль, разыгранную в ней доктором Гильотеном.
*) Жорж Гильотен родился в 1738 году и умер в 1814. Он был доктором и членом Национальнаго Собрания и славы достиг только благодаря гильотине.
До 1789 года во Франции подвергали преступников различным казням: их сжигали на костре, топили в реке, вешали, четвертовали и т.д., часто за самые незначительные проступки. Поэтому Гильотен чисто с гуманной целью предложил Национальному Собранию заменить варварские казни более быстрым и менее позорным способом лишения жизни. 10 октября 1789 года он потребовал, чтобы все преступления одного рода были наказываемы одинаковой карой, какого бы звания и положения ни был преступник, а в декабре он повторил то же требование и прибавил, что всякий приговорённый к смертной казни должен быть обезглавлен самым простым способом. Напомнив слушателям существовавшие тогда ужасные казни, налагавшие пятно на человечество, он описал в общих чертах, каким простым, механическим способом можно лишить человека жизни, и, увлечённый своим красноречием, воскликнул:
— Механизм падает, как молния, голова отлетает, кровь льёт фонтаном, и нет более человека.
Национальное Собрание одобрило в принципе предложение Гильотена, но отложило обсуждение того способа, которым должна быть произведена сама казнь. Таким образом, Гильотен добился только того, что так называемые благородные и неблагородные должны были нести одинаковую кару.
3 июня 1791 года, т.е. спустя двадцать месяцев, Ле-Пельтье-де-Сен-Фаржо внёс новое предложиние о том, чтобы все приговорённые к смертной казни были обезглавлены. Национальное Собрание согласилось на это, и осталось только распорядиться об изготовлении такого механизма, которым у преступников отнималась бы жизнь без чрезмерных страданий. Чтобы выйти из этого затруднения, Национальное Собрание обратилось к помощи непременного члена хирургической академии д-ра Антуана Луи, известного своими научными трудами. Он представил мотивированный доклад о лишении жизни путём обезглавления, и этот доклад, принятый единогласно собранием, напечатан в «Moniteur» в 1792 г.
Затем приступили к устройству такого механизма, и снова дело было поручено доктору Луи, который вступил в обширную переписку с прокурором-синдиком Парижа Реджером и министром финансов Клавьером, а с Гильотеном он советовался только для проформы. Сначала был приглашён казённый подрядчик по плотничьей части Бдон, но он запросил слишком дорого, именно 5.660 ливров, ссылаясь на то, что трудно найти рабочих для такого дела, которое возбуждает против себя все предрассудки. Тогда Луи обратился к «артисту», фортепианному мастеру, немцу Тобиасу Шмидту, который и построил требуемую смертоносную машину.
17 апреля 1792 года, в 10 часов утра, был произведён первый опыт на маленьком дворе в Бисетрской тюрьме в присутствии докторов: Филиппа Пинеля, Кабанесса, друга Мирабо, и Гильотена; хирургов: Луи и Кульерье, который принимал большое участие в изготовлении машины, начальников тюрьмы, прокурора-синдика парижской Коммуны, многих членов Национального Собрания и т.д. Палач Сансон с своими помощниками положил мёртвый труп под ocтрие, висевшее наверху, и нажал кнопку, которая была соединена верёвкой с острием, опустившимся с быстротою мысли, по заявлению Кабанесса. Голова была мгновенно отрублена от туловища и упала в корзину.
Другие два опыта удались так же хорошо.
Приведём анекдот, за достоверность которого, однако, нельзя ручаться. Пока зрители поздравляли двух медиков, изобретение которых делало смертную казнь более быстрой и менее мучительной, старик Сансон печально повторял:
— Прекрасное изобретение, только бы им не злоупотребляли, благодаря лёгкому способу убивать людей.
В то же время арестанты, смотревшие из окон тюрьмы на эти опыты, высказывали свои мнения.
— Вот применение знаменитого закона о равенстве, – сказал один. – Все теперь будут умирать одинаково.
— Да, – отвечал другой, – смерть этим способом всех уравнит.
25 апреля 1792 года была совершена первая казнь вновь изобретённым механизмом и ей подвергнут убийца Пельтье.
Трудно сказать, кем и когда назван этот механизм гильотиной. Много предполагалось ему названий, между прочим «мирабель», «луизон» и «луизет», но предпочтение отдано гильотине. О ней впервые упоминается в двух газетах. «Le Journal de Perlet» 22 марта 1792 года говорит: «Законодательный комитет принял без рассуждения и даже без прочтения декрет о способе обезглавления несчастных, приговорённых к смерти. Этот декрет не что иное, как доклад непременного секретаря хирургической академии Луи, который предлагает для исполнения смертных приговоров ввести машину, похожую на ту, которая названа её изобретателем гильотиной». В свою очередь «Actes des apоtres» заявляет: «Произошло большое затруднение, чтобы приискать подобающее название этому инструменту. Большинство полагает всего лучше назвать его именем изобретателя, и потому составлено слово «гильотина».
Существует легенда о том, что будто бы Гильотен заимствовал первую идею своей гильотины из пантомимы «Четыре сына Аймона», которая давалась на одном из бульварных театров Парижа. Но вероятнее, что он познакомился впервые с подобным механизмом из некоторых сочинений XVI столетия, в которых он подробно описывался.
*) Первое изобретение подобных способов казни приписывают персам. В Италии с ХIII века аристократы пользовались привилегией быть казнёнными таким механизмом, носившим название «Mannaia», и Конрадин Швабский подвергся подобной казни в Неаполе в 1268 г. В Германии также употреблялась машина, подобная гильотине, в Средние Bека, а в XVI и XVII веках рубили голову престунникам в Шотландии почти таким же способом, прозванным «Maiden». Казнь герцога Монморанси в Тулузе в 1632 году посредством спущенного с высоты ocтpия доказывает, что и во Франции была известна казнь такого рода. Наконец, в голландских колониях в XVIII столетии обезглавливали невольников механическими приспособлениями.
Не может быть сомнения, что у Гильотена были предшественники, но однако достоверно, что он первый предложил Национальному Собранию введение для казни механического обезглавления. Дал ли он сам гильотине своё имя, или его дали другие с его ведома, во всяком случае, он должен быть признан отцом гильотины, если не в практическом её применении, то в принципе.
IV. Робеспьер, как человек
Лучший биограф Робеспьера, Эрнест Гамель, которого правильно называют его «официальным историографом», пустил в ход легенду, что дом, где жил в последнее время своей жизни неподкупный Максимилиан, совершенно исчез. Но один из знатоков всего, что касается революции, Сарду, и почтенный историк Ленотр недавно нашли дом Дюпле, у которого квартирантом был Робеспьер, на своём старом месте, в улице Сент-Оноре. Он только приподнят и увеличен, но комнаты Робеспьера, его хозяина Дюпле и дочерей хозяина остались в прежнем виде. Окна помещения, в котором жил Робеспьер, те же самые, какие были в 1793 году, и только в нём переделан камин. До словам Сарду, которого нельзя заподозрить в большом сочувствии к величайшему деятелю революции, всего замечательнее для психологической характеристики Робеспьера, что комната Элеоноры Дюпле находилась в противоположном конце дома, и эта подробность доказывает вполне ясно, в каких отношениях находился к ней жилец отца, которого называли то её женихом, то любовником. Местная топография подтверждает чистоту нравов трибуна.
После вопроса о жилище Робеспьера является на очередь другой – о том, как он вступил в сношения с семьёй Дюпле.
19 июля 1791 года было провозглашено на Марсовом поле военное положение, и в тот же вечер Робеспьер, выходя из Якобинского клуба, который был окружён солдатами Лафайета, громко грозившими смертью якобинцам, должен был для большей безопасности взять под руку Лекуэнта, бывшего в мундире капитана Национальной гвардии. При таких обстоятельствах он не решился пойти ночевать в свою квартиру, находившуюся в улице Сент-Онже, где он жил вместе со своим секретарём, у Гюмбера. Поэтому он спросил у Лекуэнта, не мог ли он рекомендовать ему по соседству с Тюльери какого-нибудь патриота, который приютил бы его на ночь. Лекуэнт предложил ему дом Дюпле и проводил его туда. С этой минуты Робеспьер не покидал означенного жилища до самой своей смерти.
Морис Дюпле занимал в доме под № 366, а теперь 398, по улице Сент-Оноре особое здание в конце двора. В нижнем этаже находилась столярная мастерская и столовая, дверь которой прямо выходила на двор. Из неё же деревянная лестница вела во второй этаж, где с одной стороны находилась спальня супругов Дюпле и комната их четырёх дочерей, а с другой – помещение Робеспьра и чулан, где спали сын Дюпле, четырнадцатилетний мальчик, и Симон Дюпле, племянник хозяина, который сделался секретарём жильца. Направо и налево от ворот выходили на улицу два торговые заведения: ресторан и ювелирный магазин.
Когда могущественный диктатор поместился в скромном жилище Дюпле, последнему было 50 лет. Он родился в 1738 году в Сен-Дизье, в департаменте Верхней Луары, и сделался с молодых лет столяром. Постранствовав по Франции, он поселился в Париже и мало-помалу составил себе порядочное состояние, так что купил три дома в различных кварталах столицы. Что же касается того дома, в котором он жил, то Дюпле арендовал его у соседнего монастыря.
Он перестал уже заниматься своим ремеслом, когда вспыхнула революция. По-видимому, он не принимал участия в революционном движении и хотя, как домовладелец, не мог отказаться от исполнения обязанностей присяжного в революционном трибунале, но редко являлся туда. Совершенно несправедливо приписывают ему участие в суде над королевой и принцессой Елизаветой. Он часто отказывался от явки в суд под предлогом казённых подрядов, которые иногда брал на себя, и большая часть приговоров, упоминающих его имя, не были им подписаны. Бсё-таки он не избег судебного преследования, когда Фукье-Тенвиль со всеми присяжными попал на скамью подсудимых, но он был оправдан, что доказывает маловажность и неосновательность предъявленного против него обвинения. В сущности, это был вполне честный человек. После сорока лет упорного труда он едва получал 16.000 ливров со своих домов. Во время же революции квартиры в домах плохо нанимались, и он должен был снова сделаться столяром.
Дюпле был женат на дочери плотника в Шуази, по фамилии Вожуа, и у него было четыре дочери: София, вышедшая замуж за адвоката Ода, Елизавета, муж которой, Леба, был членом Конвента, Виктория и Элеонора, родившаяся в 1771 году, а также сын Морис.
В этой скромной среде проводил свою жизнь Робеспьер, который, по словам близко его знавшего молодого итальянца Буонароти, потомка Микель-Анджело, отличался простотой, строгой нравственностью, искренней любовью к народу, необыкновенной трезвостью и отвращением к светскому обществу, которое, однако, очень заискивало в нём. Со своей стороны г-жа Леба в её рукописных воспоминаниях говорит, что жилец её отца только один раз ездил к сестре в Аррас в 1793 году. Единственным его развлечением были, и то очень редко, прогулки по Елисейским Полям. Большую же часть своего времени он проводил в письменных занятиях у себя дома. Комната, занимаемая им у Дюпле, была самая простая и скромно меблированная. Кровать орехового дерева, украшенная пёстрыми занавесками, сделанными из старого платья г-жи Дюпле, несколько плетёных стульев, обыкновенный письменный стол и книжные полки на стене с главнейшими сочинениями Корнеля, Ваппа, Вольтера и Руссо — вот всё, что было в этой комнате, освещённой одним окном, которое выходило на сарай, где производилась постоянная столярная работа. Поэтому Робеспьер днём всегда работал под звуки пилы и рубанка.
Он вставал очень рано и первым его делом было пойти в мастерскую и поздороваться со своим хозяином. Потом он выпивал стакан воды и садился за работу. Так проходило несколько часов, и никто тогда не смел ему мешать. Затем приходил парикмахер и причёсывал его обыкновенно на открытой галерее, выходившей во двор. По окончании этой процедуры к нему являлись многочисленные посетители и, разговаривая с ними, он Завтракал хлебом, фруктами и вином или просматривал газеты; когда же он слушал длинные речи своих посетителей, то обыкновенно смотрел вниз и, по-видимому, размышлял о чём-то очень важном. После завтрака он возвращался к своей работе и прерывал её, только когда наступала пора приступить к исполнению своих общественных занятий.
Обедал он почти всегда дома и, садясь за стол, произносил обычную молитву. Когда его кто-нибудь приглашал обедать, он никогда не уведомлял об этом г-жу Дюпле, считая, что для него не готовили особых блюд. Он ел то же, что его хозяева, и пил их дурное вино, а в последние месяцы своей жизни только воду. Он позволял себе лишь одну фантазию, именно съедал за десертом груду апельсинов, корки которых валялись на его тарелке и вокруг неё. Враги его уверяли, что он старался апельсинами освежить свою кровь и поправить свой цвет лица, благодаря постоянному разлитию желчи. Но этот факт ничем не доказан. Платил он за квартиру и пансион незначительную сумму и ничего к ней не прибавлял, но он это делал для порядка, а не из скупости, потому что делал много добра детям своего хозяина: помог сыну хорошо устроиться столяром, а дочерям-девицам обещал большие свадебные подарки, если они выйдут замуж за граждан, сражавшихся за родину.
После обеда он пил кофе и около часа сидел дома, ожидая посетителей, а затем уходил из дома в Комитет общественной безопасности и возвращался домой очень поздно.
До нас дошёл только один портрет Робеспьера в молодости. Он написан живописцем Буальи и находится в музее Карнавал. Диктатор изображён довольно полным и кажется добродушным рабочим, но не очень умным. Напротив, Буалье уверяет, что в 1785 году он был небольшого роста и поражал невзрачным рябоватым лицом, синеватой бледностью и мрачным, дышавшим ненавистью взглядом. Со своей стороны, Гамель рисует его портрет, очевидно, в слишком лестном виде. «Хотя, – говорит он, – голова Робеспьера не имела львиного характера, как у Мирабо и Дантона, которые производили сильное впечатление даже своей уродливостью, но отличалась таким убедительным выражением, что всякий невольно подчинялся её влиянию. Длинные, откинутые назад каштановые волосы, широкий лоб, открытый на висках и слегка выдававшийся, дугообразные брови, глубоие, ясные, умные глаза, но полускрытые очками, которые он всегда носил, вследствие своей близорукости, прямой, несколько приподнятый кверху нос, правильно очерченный рот и такой же подбородок — вот его физические приметы».
Современники, однако, отзывались о Робеспьере далеко не так лестно. Дюмон из Женевы, часто разговаривавший с ним, свидетельствует, что он никогда не смотрел прямо на своего собеседника и постоянно моргал глазами, что было очень неприятно. Многие уверяли, что он носил очки не от близорукости, а чтобы скрыть это моргание. Аббат Тюйар замечал ещё в молодом Робеспьере очень глубокие глаза и блуждающий взгляд. Прибавим к этой физической характеристике трибуна, что, по словам мисс Вильямс, он, кроме очков, часто зелёных, ещё прибегал к помощи бинокля, даже стоя на трибуне.
Если мы перейдём к его одежде, то должны заключить, по свидетельству современников, что он одевался изысканно, носил тонкое бельё и даже жабо, чего не делали большинство его товарищей по Конвенту. Но совершенно несправедливо, чтобы он носил много колец на пальцах, как уверяют некоторые писатели. Живописец Виван-де-Нон часто видел его напудренным франтом, в модном белом жилете с кисейным жабо.
Судя по внешности Робеспьера, нетрудно заключить, что Элеонора Дюпле, которую со времени революции называли Корнелией, в честь матери Гракхов, скорее пленялась его умом и славой, чем физическими качествами. Он не был феминистом и слишком был занят политикой, чтобы поддаться влиянию женщин. Он не любил ни женщин, ни денег, и не обращал никакого внимания на свои личные интересы. Он дозволял Корнелии окружать себя любезным вниманием, но не был в неё влюблён. К тому же, её скорее мужская, чем женская фигура вряд ли могла возбудить любовь. Бледная, с мутными глазами и сухим, холодным выражением лица, она, по свидетельству современников, была далеко не симпатична, и на её устах никогда не было видно весёлой улыбки.
Об отношениях Элеоноры Дюпле к Робеспьеру историки говорят различно. Одни удостоверяют, что она была его невестой, а другие называют её любовницей диктатора. Но ни то, ни другое ничем не доказано, хотя несомненно, что как сама Элеонора, так и её мать всячески старались побудить его жениться, но, по словам его сестры Шарлотты, он никогда не сделал предложения молодой девушке.
Как бы то ни было, в доме Дюпле все ухаживали за Робеспьером и положительно его обожали. Поэтому он любил проводить свободные минуты в этом преданном ему кружке. Обыкновенно после обеда он просиживал несколько времени в их обществе, и пока молодые девушки занимались шитьём или какой-нибудь работой, он читал вслух Корнеля, Расина, Вольтера или Руссо. Так как он читал очень хорошо и с большим чувством, то все приходили в восторг, что ему очень нравилось.
По четвергам у Дюпле бывали вечера, на которых иногда появлялись братья Ламет, Мерлен, Колло-Дербуа, Камиль де-Мулэн, живописцы Жерар и Прудон и другие. На этих вечерах никогда не говорили о политике и много занимались музыкой, так как Буонароти и Леба хорошо играли на фортепиано.
В последние недели жизни Робеспьера к нему часто приходил его друг и один из судей Марии-Антуанетты, доктор Субербьель, но он являлся по утрам и оставался у него около часа. Эти визиты сохранялись всегда в тайне, и только впоследствии оказалось, что у диктатора была язва на ноге, которую доктор перевязывал. Даже в самый день падения Робеспьера Субербьель сделал ему перевязку и между ними произошёл знаменательный разговор:
— Ты не будешь в состоянии вылечить мне рану, которую нанесут мои враги, – сказал Робеспьер мрачным тоном.
— Так надень кирасу под одежду, – ответил доктор.
— Они не тут нанесут мне удар, – произнёс Робеспьер, указывая рукою на грудь, и потом, проведя ею по горлу, произнёс: — а вот где: они отрубят мне голову.
И при этом, по словам Субербьеля, он схватил его за руку и нервно сжал её.
— Страшно было тогда смотреть на него, – замечал Субербьель и, рассказывая об этом двадцать лет спустя, он лихорадочно вздрагивал.
Падение и казнь Робеспьера печально отразились на семье Дюпле. Арестованный вместе с ним Леба застрелился, а его жена, отец, мать и брат были посажены в тюрьму, где несчастная г-жа Дюпле была задушена женщинами, содержавшимися в той же тюрьма, где она.
Елизавета Леба после долгих мытарств по различным тюрьмам наконец была освобождена, но, ещё находясь в заточении, она родила сына Филиппа Леба, который был впоследствии наставником Наполеона III. Она дожила до глубокой старости и умерла в Фонтенэ близ Шатильона в 1860 году. Её сосед, доктор Амедей Латур, рассказывает о ней очень любопытный анекдот. У неё был большой попугай, которого старуха очень любила и ласкала. Эта птица была очень оригинальна и громко пела то марсельезу, то другие республиканские песни. Однажды Латур заметил старухе:
— Однако, у вас попугай революционный.
— Ещё бы, – отвечала она вполголоса, – он принадлежал Максимилиану Робеспьеру. Он мне достался от семьи Дюпле, у которой жил Максимилиан.
Произнося это имя, старуха, отличавшаяся большой набожностью, крестилась, так как считала Робеспьера мучеником и жертвой жестоких, безнравственных людей. Попугай вполне разделял её убеждения и, наученный старухой, давал знаменательные ответы на предложенные ему вопросы.
— Робеспьер, – произносил по наущению г-жи Леба д-р Латур, и птица отвечала:
— Долой шляпу.
— Максимилиан...
— Мученик, мученик!
— Где Максимилиан?
— На небе.
Куда делся попугай г-жи Леба после её смерти – неизвестно, но, может быть, он ещё жив, так как попугаи живут более ста лет.




